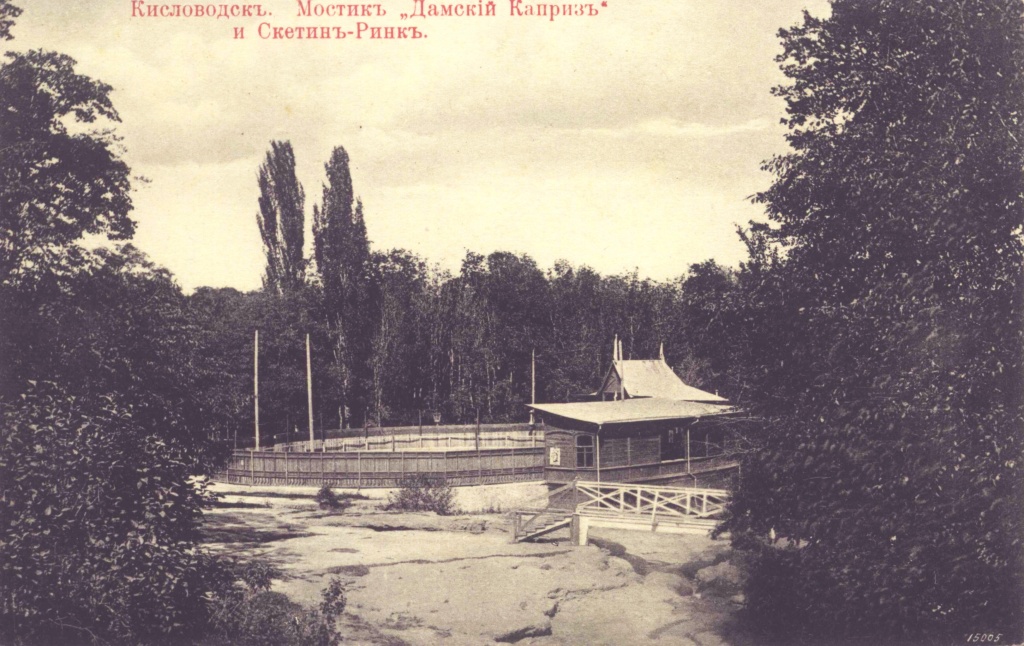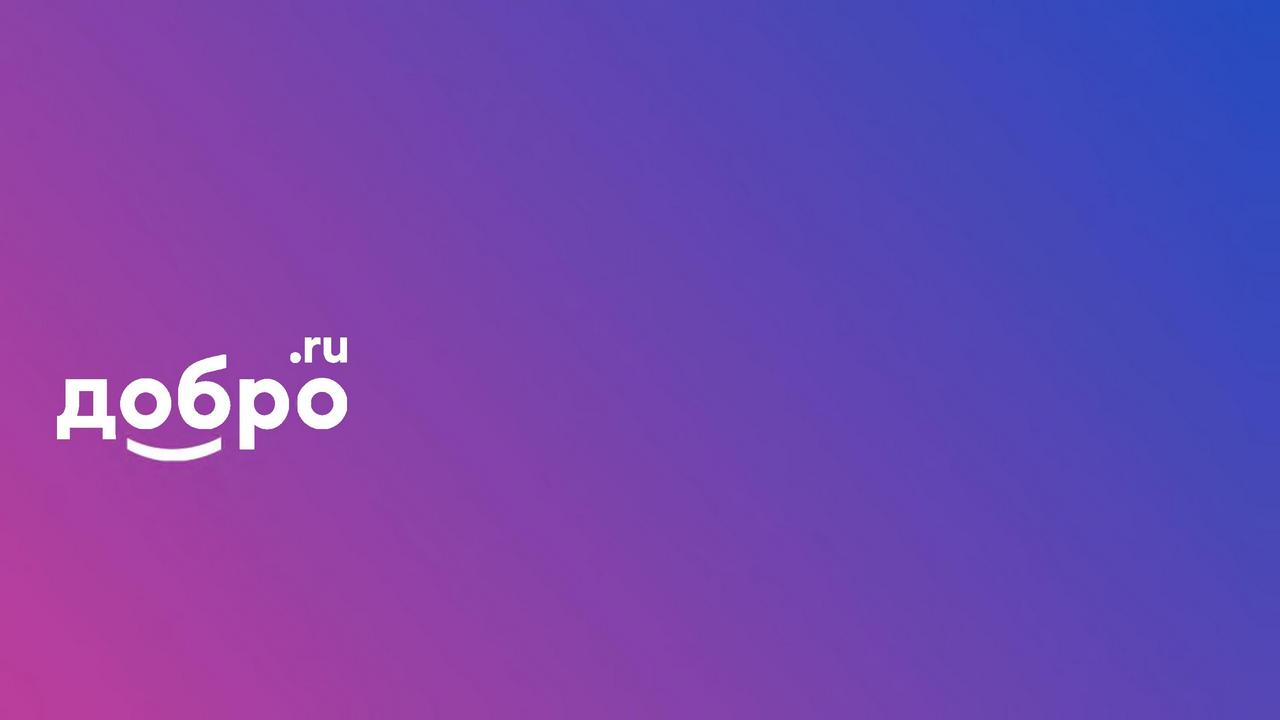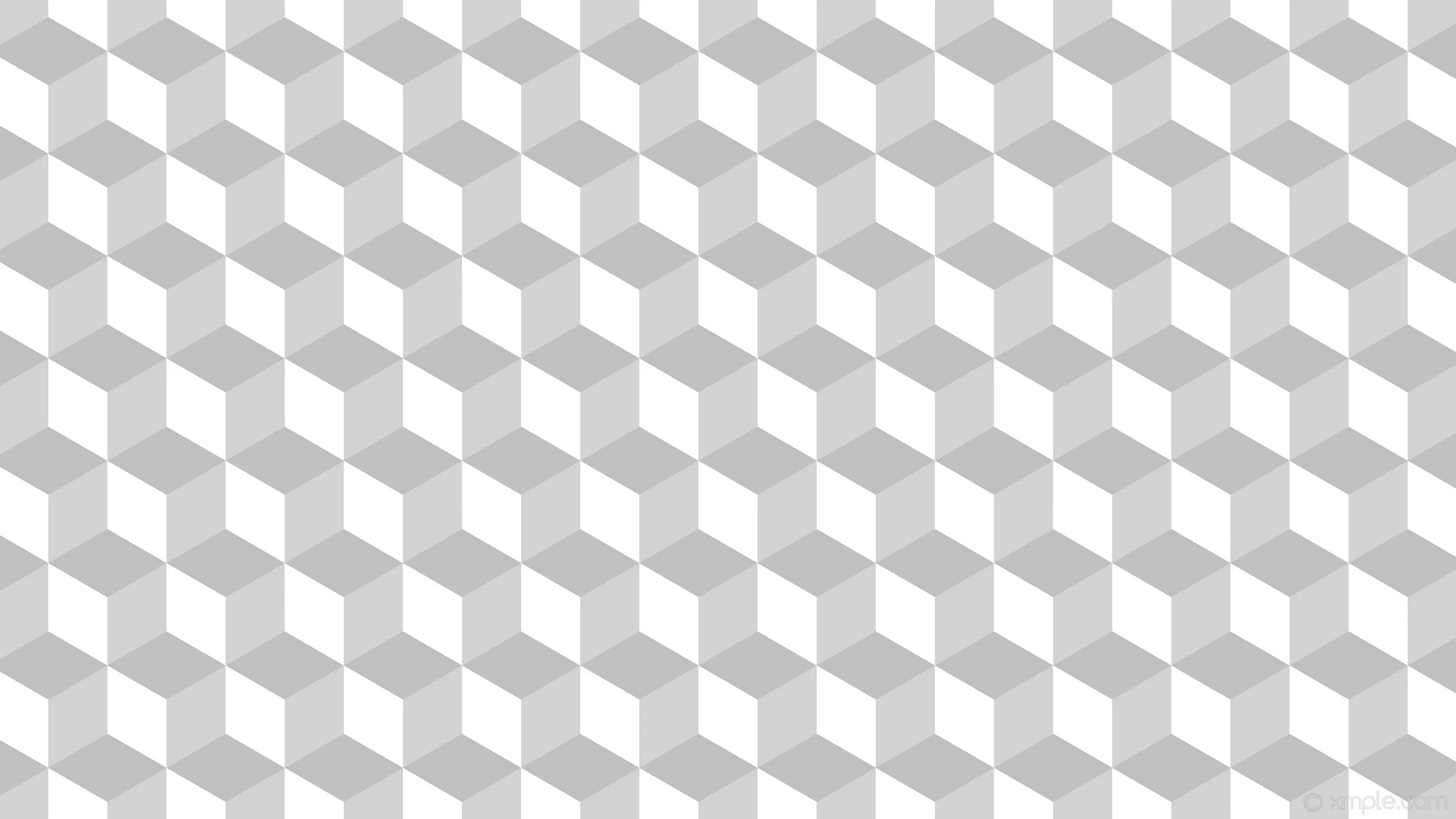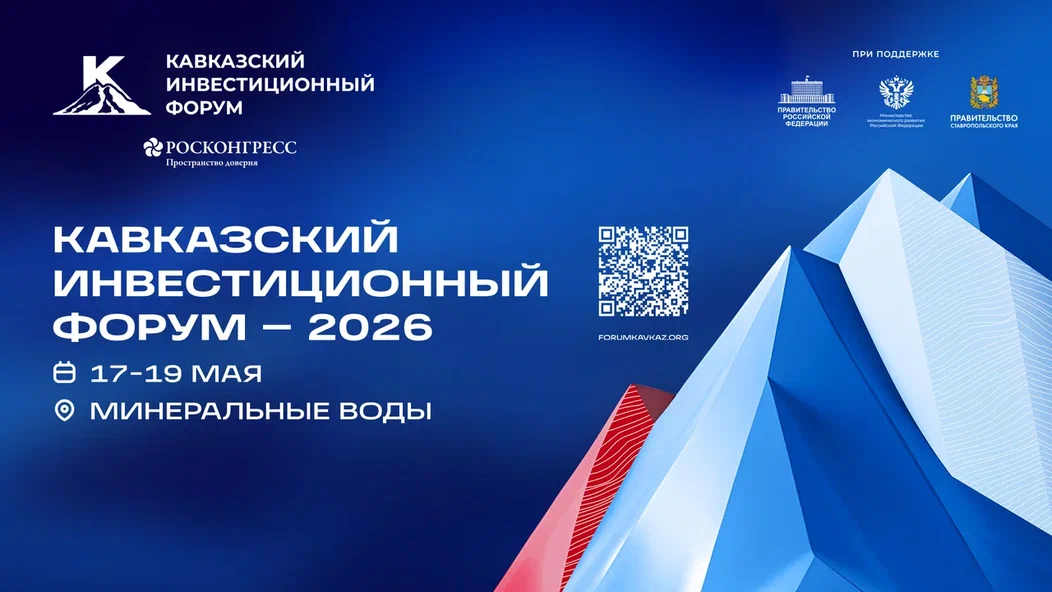Новости
Тип публикации:

Экскурсия по выставке «Во имя Отечества: служба, подвиг, память»
25 февраля 2026 года Ставропольский государственный музей-заповедник посетили условно осужденные без изоляции от общества, состоящие на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю».
26 февраля 2026 г.

официально